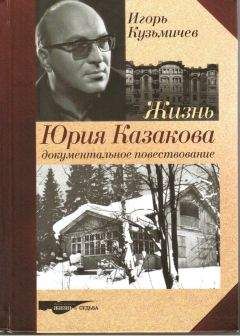И живопись, картины, искусство Вылки находились в полном согласии с его нравственными устоями. Мир, запечатленный на этих картинах, с их чистыми красками и бесхитростными сюжетами, был суров, тревожен, безмолвен, и вместе с тем, он словно высвечен изнутри, одушевлен присутствием человека, согрет щедрым, любящим сердцем. Так спокойны, невозмутимы задумчивые ненцы у костра. Так теплы и уютны среди ночного безмолвия светящиеся окошки одиноких домов. Так добродушны и любопытны белые медвежата, симпатичны собаки и олени. Так вызывающе выразителен, как подметил Казаков, простой электрический фонарь на столбе, соперничающий с мистическим полярным сиянием... Надо было обладать незаурядной стойкостью и душевной силой, чтобы столь оптимистично, с наивной нежностью изображать этот мир ледников и скал, этот пустынный остров, затерявшийся в просторах Ледовитого океана.
Работу над повестью «Мальчик из снежной ямы» Казаков не закончил и печатать ее не торопился. Однако, при известной незавершенности, повесть эта состоялась в главном — самобытная фигура Тыко Вылки выписана по-казаковски страстно, с завидной художественной убедительностью.
В заключительном разделе сборника представлены разного рода литературные заметки — короткие статьи, рецензии, предисловия, высказывания, ответы на анкеты, — позволяющие судить об эстетических взглядах Казакова, о его отношении к собственному творчеству. Впервые собранные воедино, эти заметки дают наглядное представление о круге идейно-художественных проблем, интересовавших писателя.
На протяжении всего творческого пути Казаков задумывался над ролью литературы в современном мире. Свято веря в высшее предназначение писателя, он в первую очередь обращался взором к русским классикам, при всяком удобном случае напоминая об их писательском и гражданском подвижничестве. «Русская литература, — писал он в 1967 году в статье «Не довольно ли?», — всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории. Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества».
Эта подчеркнутая оглядка на классику не всегда находила должное понимание, а стремление Казакова возрождать традиционные формы русского рассказа нередко воспринималось как преднамеренное стилизаторство. Каких только влияний не приписывали Казакову — от Карамзина до Пришвина! Каких только параллелей не выискивали в его рассказах! Между тем классики не являлись для Казакова учителями лишь в узком, ремесленном смысле. Они открывали ему свой внутренний мир, свою философию, вселяли уверенность в великой воспитательной пользе литературы, Казаков словно жил с ними бок о бок, и результаты такого духовного общения вовсе не сводились к натужному ученичеству.
Кто из классиков был особенно дорог Казакову?
Первым, пожалуй, следует назвать Лермонтова, чья таинственная и трагическая судьба запала Казакову в сердце довольно рано. Роковая тайна этого «изжелта-смуглого поэта с сумрачными глазами», этого гениального русского человека, погибшего в неполные двадцать семь лет, волновала Казакова, когда писал он о Лермонтове рассказ «Звон брегета» (1959) и когда высказывался о великом поэте в связи со стопятидесятилетием со дня его рождения («Вопросы литературы», 1964, № 10). Было что-то вещее в казаковском тяготении к Лермонтову, в его желании разгадать — почему Лермонтов с такой легкостью шел навстречу своей гибели: «Какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке?..»
В Лермонтове, в его несправедливо короткой жизни заключалась какая-то фатальная недосказанность, и это вызывало у Казакова досаду. А вот Лев Толстой — его Казаков почитал больше, чем кого-либо из классиков, — поражал всеведением, всеобъемлемостью своего человеческого и писательского опыта. Толстой, сын своего века, знал ту правду о человеческой душе, значимость которой одинакова во все времена, и поскольку задача литературы, — как заявлял Казаков, — изображать «именно душевные движения человека, причем главные, а не мелочные», постольку и Толстой для литературы бессмертен.
Художественный мир Толстого незыблем, как сама жизнь, — Казаков верил в это непреклонно. «Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, — размышлял он в интервью «Вопросам литературы» (1979, № 2), — подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его «В чем моя вера?», его «Не могу молчать». А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом — и человека под этим небом?»
И Лермонтова, и Толстого, и других русских классиков Казаков принимал душой, в споре с хрестоматийными стереотипами их восприятия. О Чехове сказал: «Он вошел в мою жизнь, как говорится, с младых ногтей, вместе с Толстым. Знакомство с ним, когда я не помышлял еще о писательстве, было плавным и как бы необязательным». В этой «как бы необязательности» и кроется причина той легкости в постижении традиций, той тонкой художественной восприимчивости, какая всегда отличала Казакова.
И только Бунин, о чьем влиянии на Казакова толковали так много, «достался» ему непросто. В отличие от Толстого и Чехова, признавался Казаков, Бунин ударил по нему «резко, внезапно, неестественно сильно», присущее Бунину «ястребиное видение» человека и природы сперва заворожило и подавило молодого писателя. «Конечно, я подвергся самому откровенному влиянию, — признавался Казаков, — и несколько моих рассказов — ну, например, «Старики» — написаны явно в бунинской манере. Но вот что обидно: когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последующие мои вещи написаны вообще вне этого влияния), мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин, Бунин, Бунин... (Ну, разве «Осень в дубовых лесах» — Бунин?)».
И «выбравшись из-под Бунина», Казаков продолжал его любить и хотел написать о Бунине книгу в духе цвейговских «Звездных часов человечества». Будучи во Франции в 1967 году, встречался с Б. Зайцевым, Г. Адамовичем, расспрашивал о Бунине всех, кто был с ним мало-мальски знаком: не просто «собирал материал», а как бы сливался с бунинской средой, ощущая себя законным ее наследником. Своеобразной страницей книги о Бунине можно считать отрывок «Вилла Бельведер», публикуемый впервые. Однако написать книгу о Бунине, к великому огорчению, ему не довелось.
В кругу близких Казакову русских классиков нельзя не упомянуть и Аксакова. Говоря о нем, Казаков в 1959 году в заметке «Вдохновенный певец природы» обращал внимание на то, что Аксаков не мог ничего «сочинять», писал только то, чему сам был свидетелем, — потому его проза насквозь автобиографична, а «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» являют собой яркий пример того, как «биография одного человека перерастает в биографию целого края, в биографию общества». Казаков подчеркивал благотворность влияния Аксакова на последующую русскую литературу: «Певцами родной природы, — писал он, — стали потом многие прекрасные поэты — от Тургенева до Пришвина. Но первым певцом ее был Аксаков, и тихие песни его звучат для нас через столетие».
Среди советских писателей, продолжавших аксаковскую традицию, Казаков выделял Пришвина, о котором еще в 1949 году заметил в дневнике: «Бывает, спрашивают у меня в разговоре, кого я из советских писателей люблю больше других. Каждый раз я отвечаю: Пришвина. Пришвин — писатель совершенно особого склада. Читать его наслаждение, почти равное наслаждению живой природой. В каждом человеке есть свое тайное, глубоко запрятанное, и, по-моему, ни один из советских писателей не трогает так это тайное, как Пришвин...» Личность и принципы «творческого поведения» Пришвина, равно как и его художественный опыт, неизменно интересовали Казакова.
И еще об одном писателе необходимо сказать — о К. Паустовском, который радостно приветствовал появление Казакова на литературном горизонте. В своих воспоминаниях о нем («Поедемте в Лопшеньгу») Казаков восхищался тем особым климатом доброжелательства и деликатности, той атмосферой влюбленности, что царили вокруг признанного мастера в последние годы жизни. Казаков не считал себя учеником К. Паустовского «в прямом смысле этого слова», он не учился в его литинститутском семинаре, но с благодарностью, подобно многим, воздавал К. Паустовскому, «нашему общему учителю», в сердце своем.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)